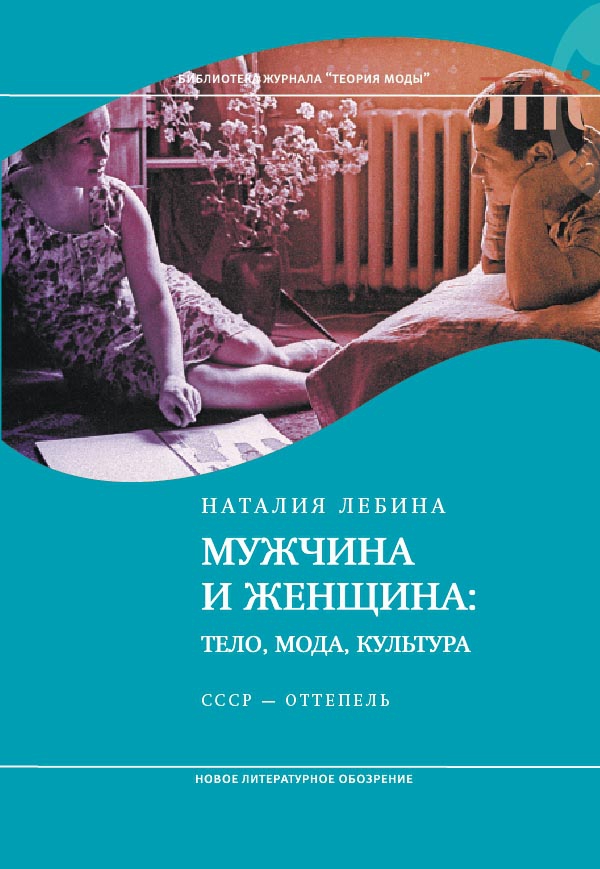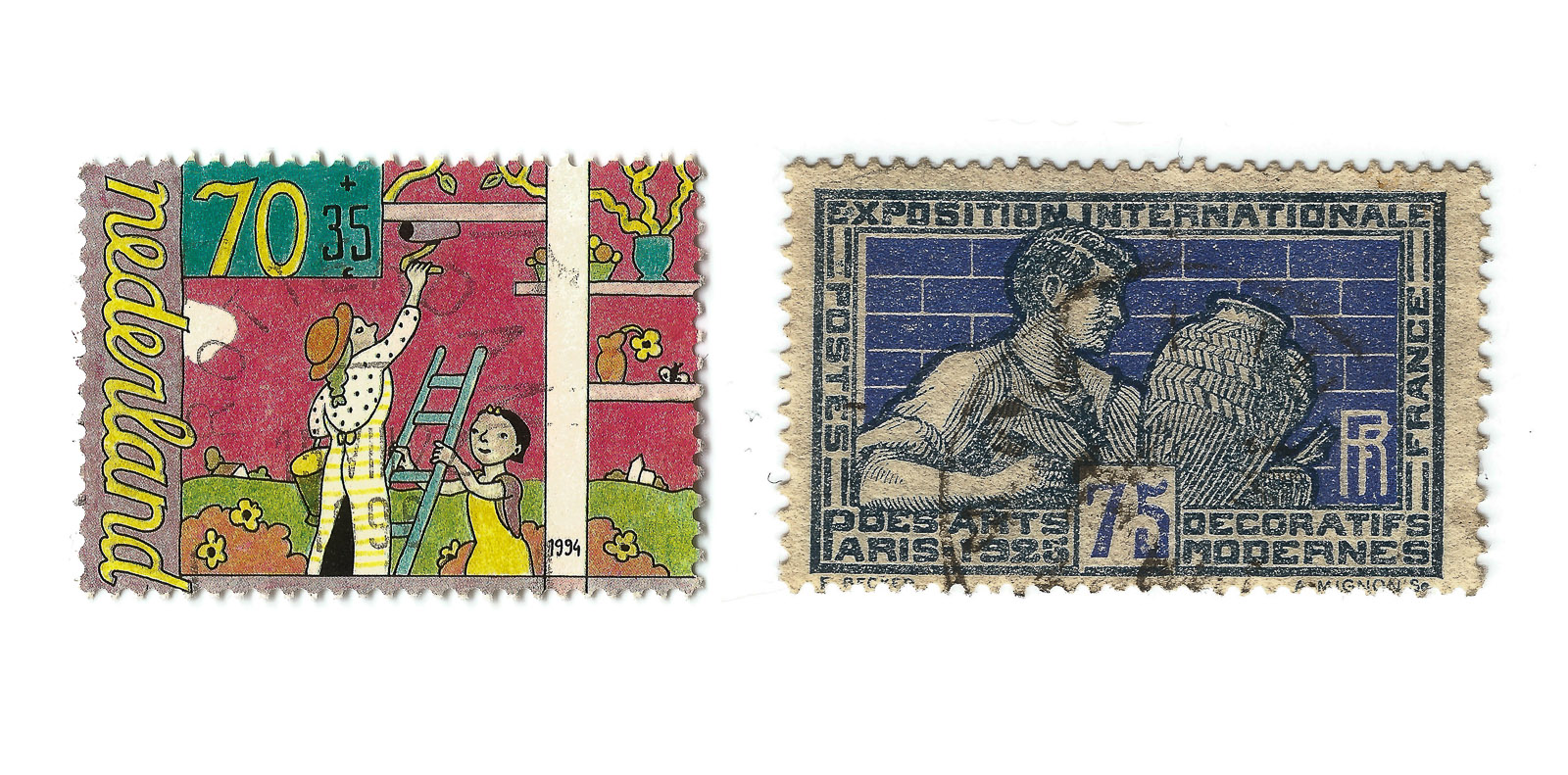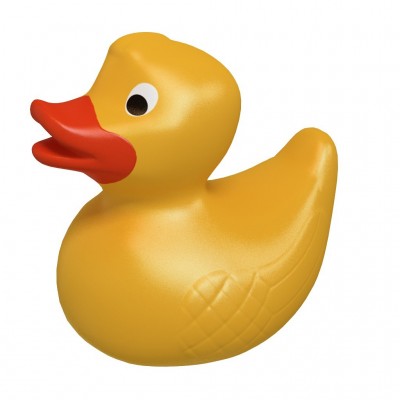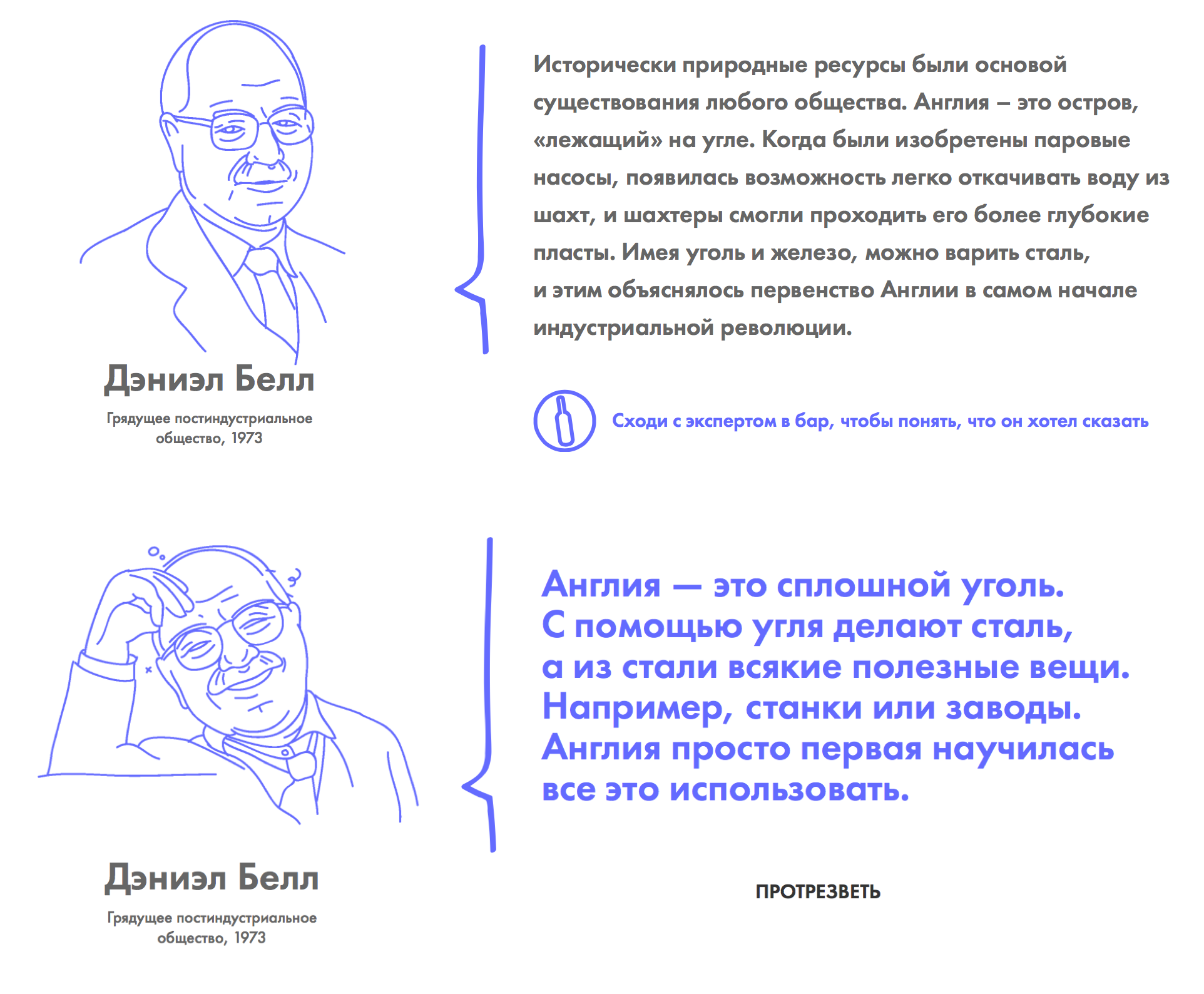Попрошайки
В Москве немало попрошаек — я сталкиваюсь с ними каждый день по несколько раз. Обычно люди стараются взаимодействовать с ними как можно меньше, но я решил наблюдать и записывать наблюдения.

За год жизни в столице накопил такой списочек:
- Если у попрошайки нет возможности остановить проходящих мимо людей, то их конверсия в подаяния чрезвычайно низкая. Такие ребята скорее надеются на милостыню, чем просят.
- Глупые ребята сидят или стоят в случайных местах: на улицах. Ребята поумнее встают там, где велик поток людей: в подземных переходах. Еще более умные ребята занимают позиции там, где люди снижают скорость движения: у дверей метро или магазинов. Часто попрошайки работают там, где люди вынуждены долго стоять на месте. Например, они всегда есть на переходном переходе через Смоленскую площадь, где десятки людей и машин ждут зелёного сигнала светофора.
- Многое зависит от «предложения» — фразы, которой попрошайка пытается завязать контакт. Типичные фразы вроде «Уважаемый», «Братишка», «Друг», «Молодой человек» — звучат фальшиво и не работают. Однажды ко мне обратились «Эй, высокий!» — я улыбнулся про себя, и от неожиданности остановился. Мне трудно представить фразу, которая работала бы очень хорошо. Наверное, это должно быть чем-то модным и неожиданным. «Эй, хипстер!»
- Я встречал попрошаек, которые максимально похожи на обычных людей и обыгрывают ситуацию «Блин, кончился проездной и кошелек дома забыл!». Приятный внешний вид помогает попрошайке пробить барьеры. К сожалению, такие ребята обламываются на предложение просто провести их через турникет. Короче, если вы хотите быстро набрать полные карманы мелочи, нужно выглядеть
как уткакак обычный парень и вести себя как обычный парень. - Раздражают люди, которые «якорят» людей, засовывая им в руки копеечную безделушку. Обычно это трубочка от коктейля. Человек останавливается, смотрит на трубочку, пытается отдать обратно — попрошайка не берёт и начинает быстро рассказывать про благотворительность, больных детишек, протекающие крыши храмов и прочее.
- Бывает немного иная ситуация. Попрошайки-пауки смиренно ждут, когда кто-нибудь провзаимодействует с ними самостоятельно, а потом активизируются и требуют денег. Так действуют, например, ростовые куклы на Арбате. По пешеходной улице бредут грязные Чебурашки или олимпийские Леопарды, и ждут, когда их обнимет ребёнок или сфотографирует турист.
- Неприятный тип попрошаек мимикрирует под уличных музыкантов. Обычно это сиплый, вечно молодой и пьяный парень с гитарой, который лабает что-то из классики русского рока, лабает в меру сил и таланта. Вокруг него бродят девушки с шапками и пристают к прохожим. Иногда пристают очень навязчиво и агрессивно, пытаясь выяснять отношения с теми, кто демонстративно не подаёт. Разумеется, к уличному творчеству всё это не имеет отношения. Подозреваю, что «активные продажи» в этом случае повышают конверсию подаяний.
- Заметил, что хорошо работают уличные музыканты, продавцы и попрошайки, у которых есть фишка. Например, в чехле виолончелиста на фотографии смирно сидит шарпей. На Арбате есть женщина, которая стоит с котом и собирает ему на операцию. Еще в центре встречается женщина преклонных лет, которая воодушевленно кружится под музыку из небольшого проигрывателя. Она вовлекает людей в танец, а потом просит денег.
- Очень раздражают люди, которые пытаются собрать «на операцию», водят с собой девочек в медицинских масках и говорят надрывным голосом. Я не видел, чтобы им кто-нибудь когда-нибудь подавал. Они не вызывают сочувствия.
- Еще редко вызывают сочувствие люди без ног или те, кто демонстрируют свои травмы и язвы.
- Мне нравятся попрошайки, которые не просят деньги просто так, а меняют их на свой талант, пусть даже самый скромный. Они поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах. Люди любят платить за услугу, пусть даже они её не заказывали. Это снимает блок в сознании людей.
- Не знаю, можно ли назвать торговцев барахлом попрошайками, но среди них встречаются профессионалы экстра-класса. Они садятся в вагон метро, и за минуту между станциями устраивают маленькое представление со своим товаром: счищают шкуру с яблока или продают игрушки-липучки, показывая их возможности прямо на вагоне. Видно, что всё это очень тщательно отрепетировано, похоже на маленький стендап.
- Странно, что попрошайки не учатся выделять маленькие житейские проблемы горожан, и не пытаются их решить за деньги. Почему летом в жару на улицах не продают прохладную воду? Почему в дождь у метро не торгуют бахилами или дешевыми зонтиками?
Одним словом, идеальный попрошайка максимально похож на нормального человека, он улыбается, говорит вежливо. Он стоит там, где люди замедляются, останавливает и привлекает людей фишкой. А еще он не просит, а меняет на деньги свой скромный талант или труд.
А что вы думаете о попрошайке? Подаёте? Встречаете необычных?