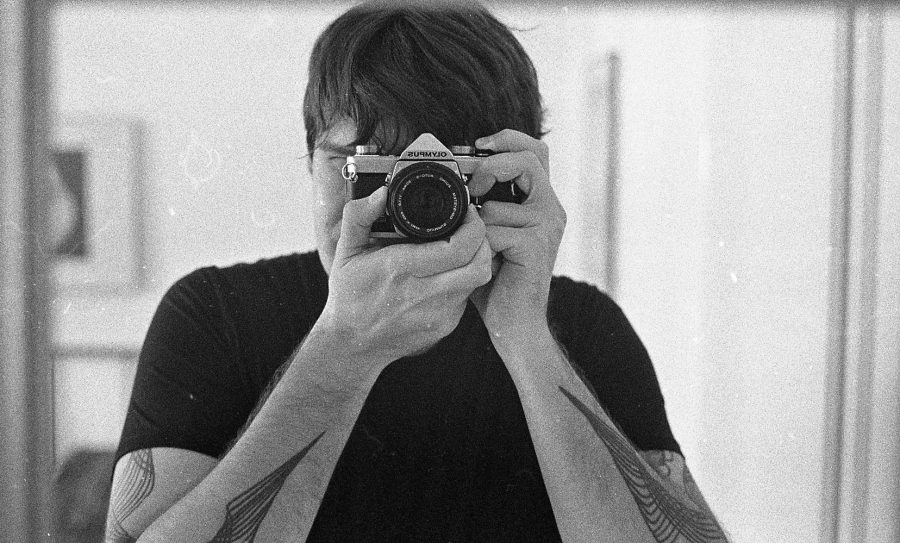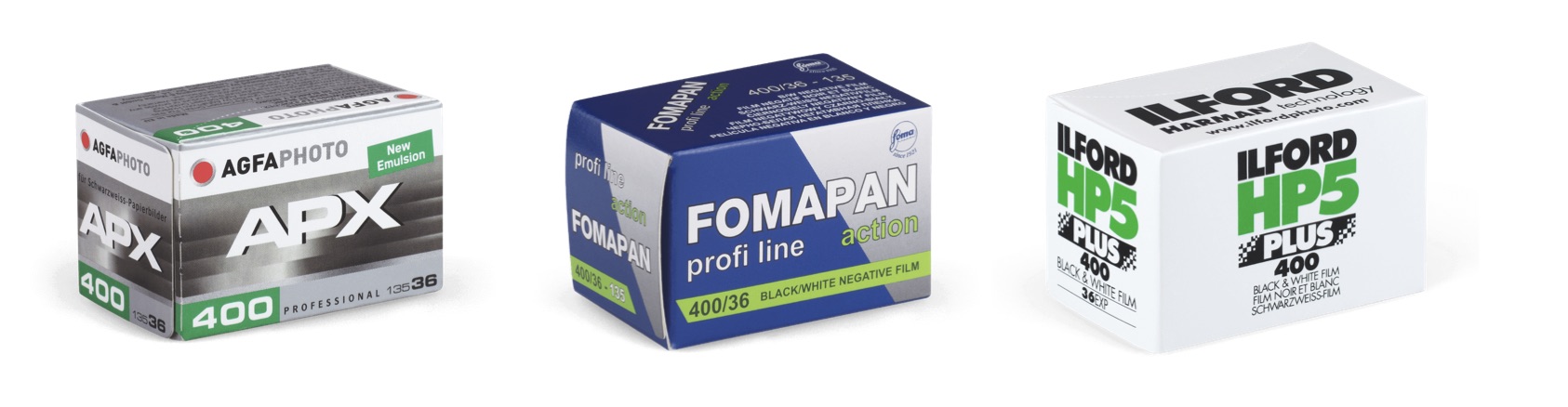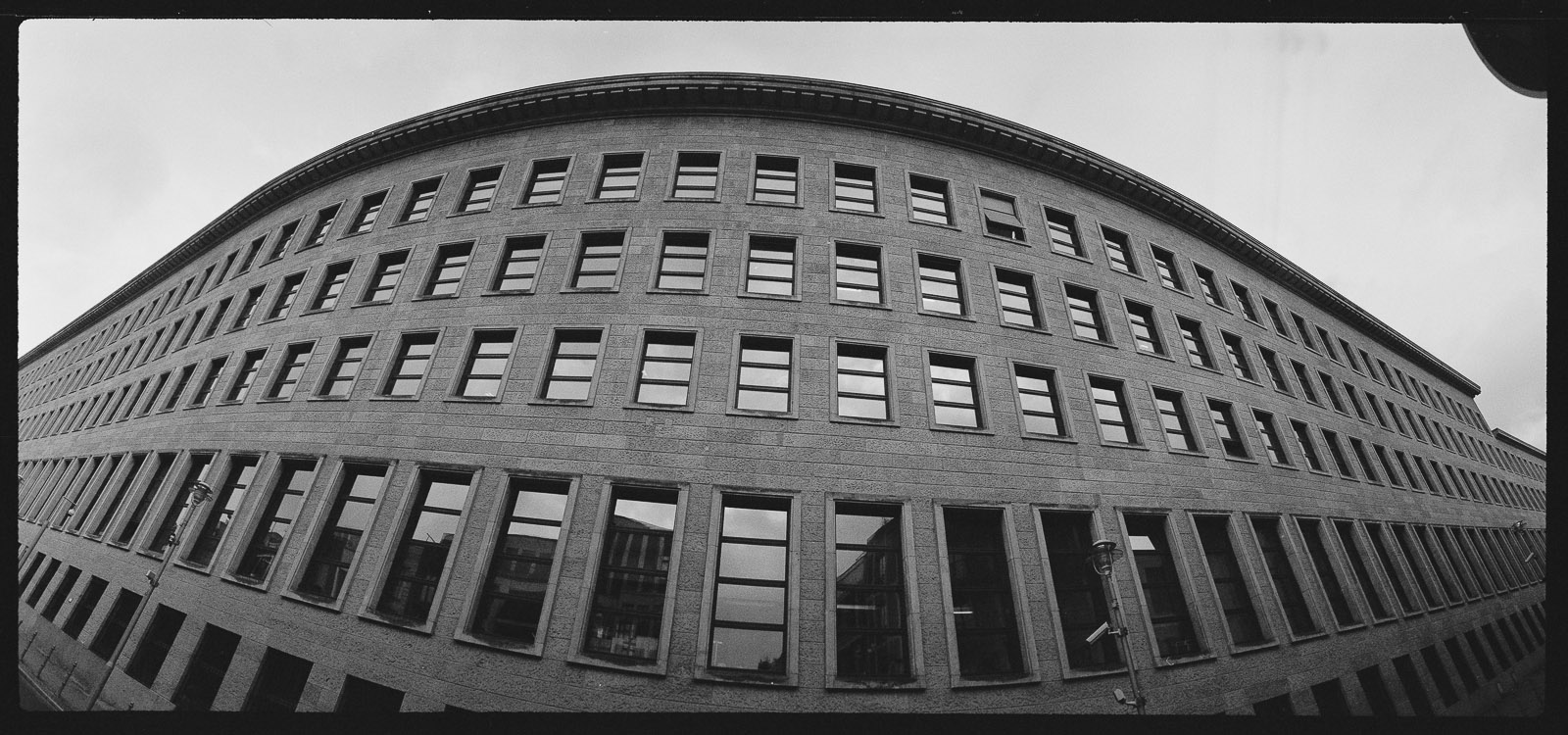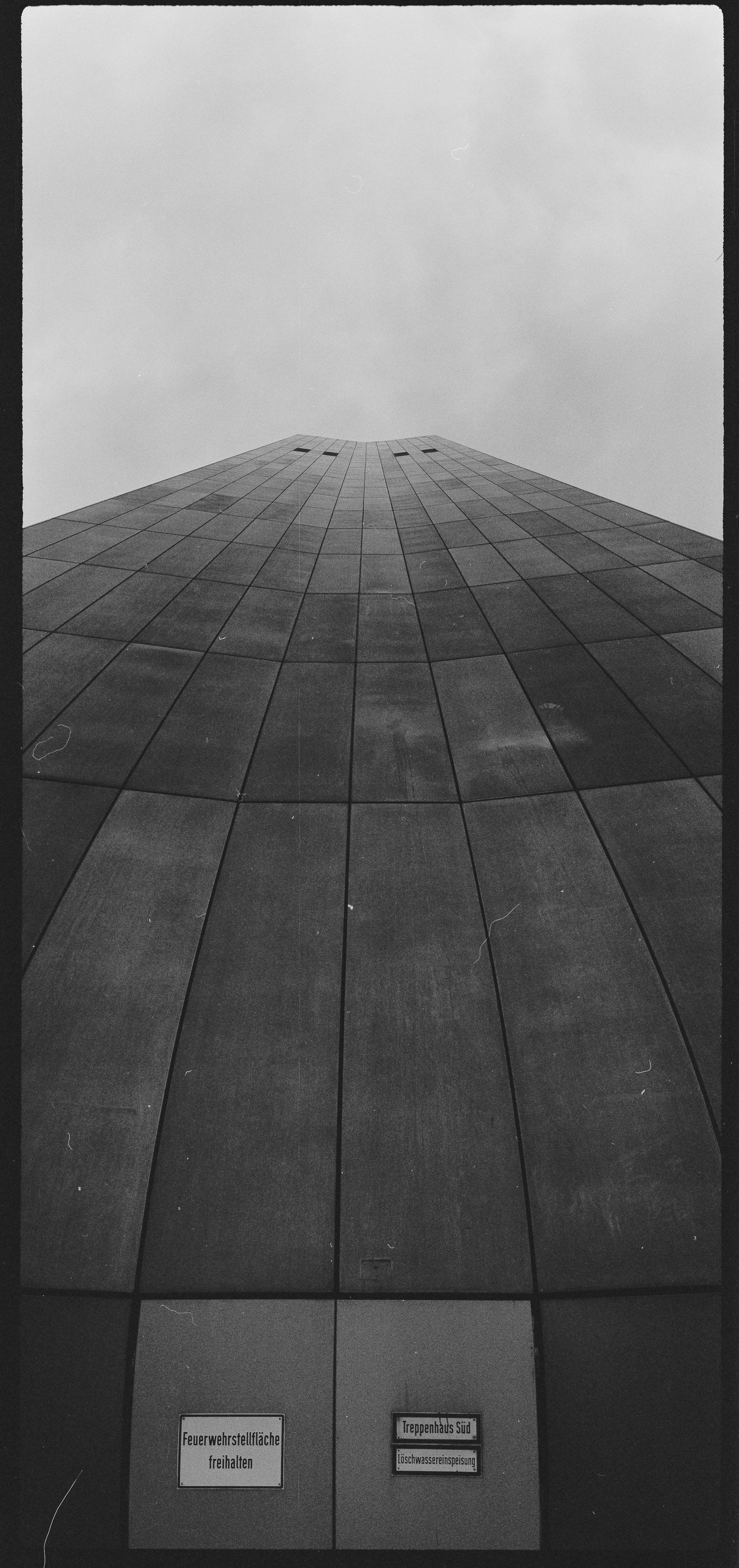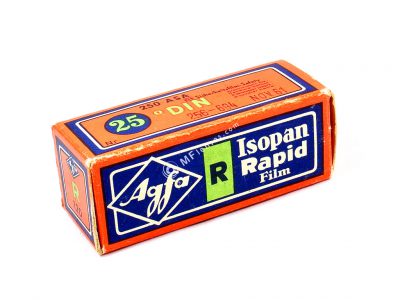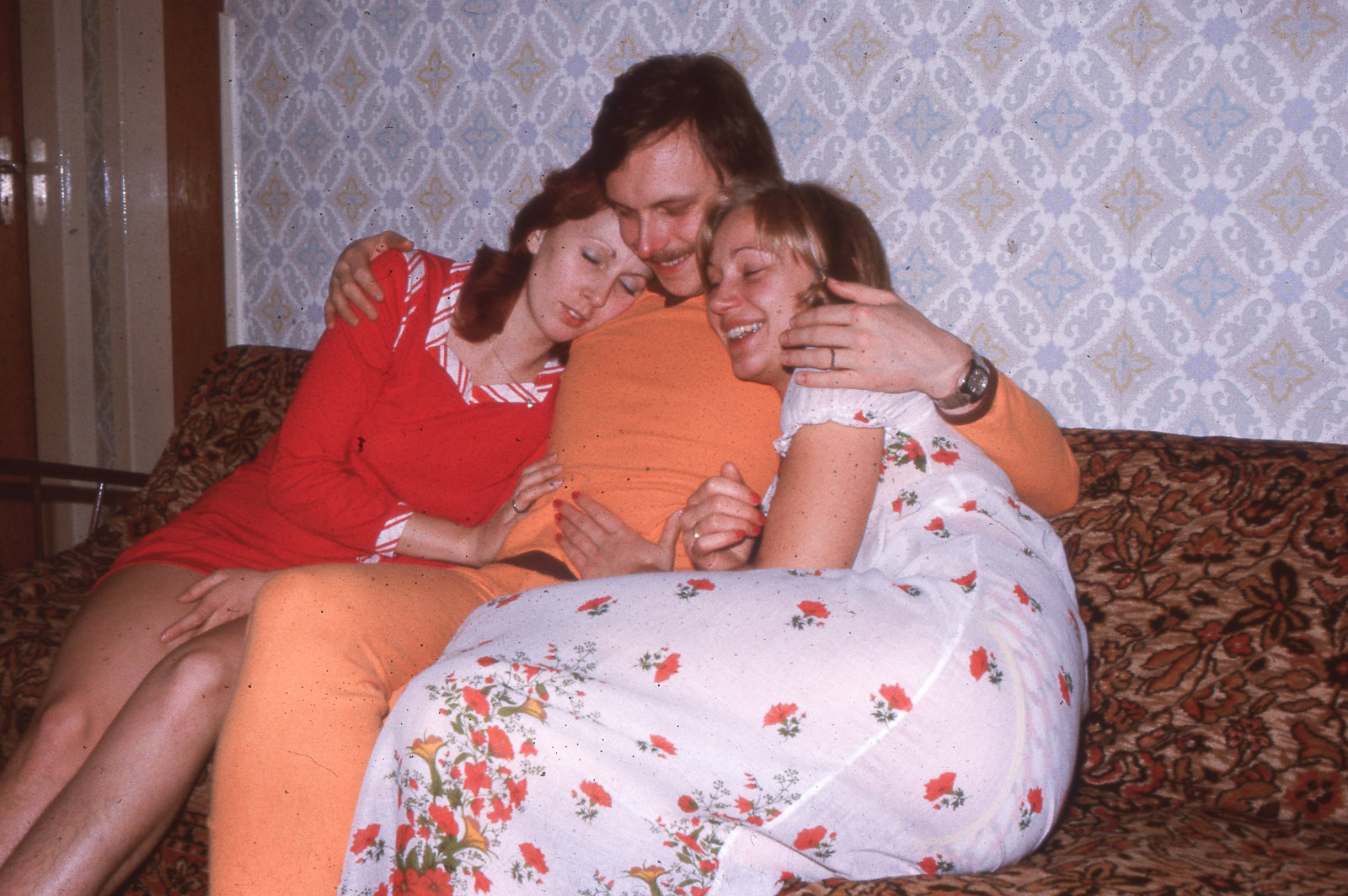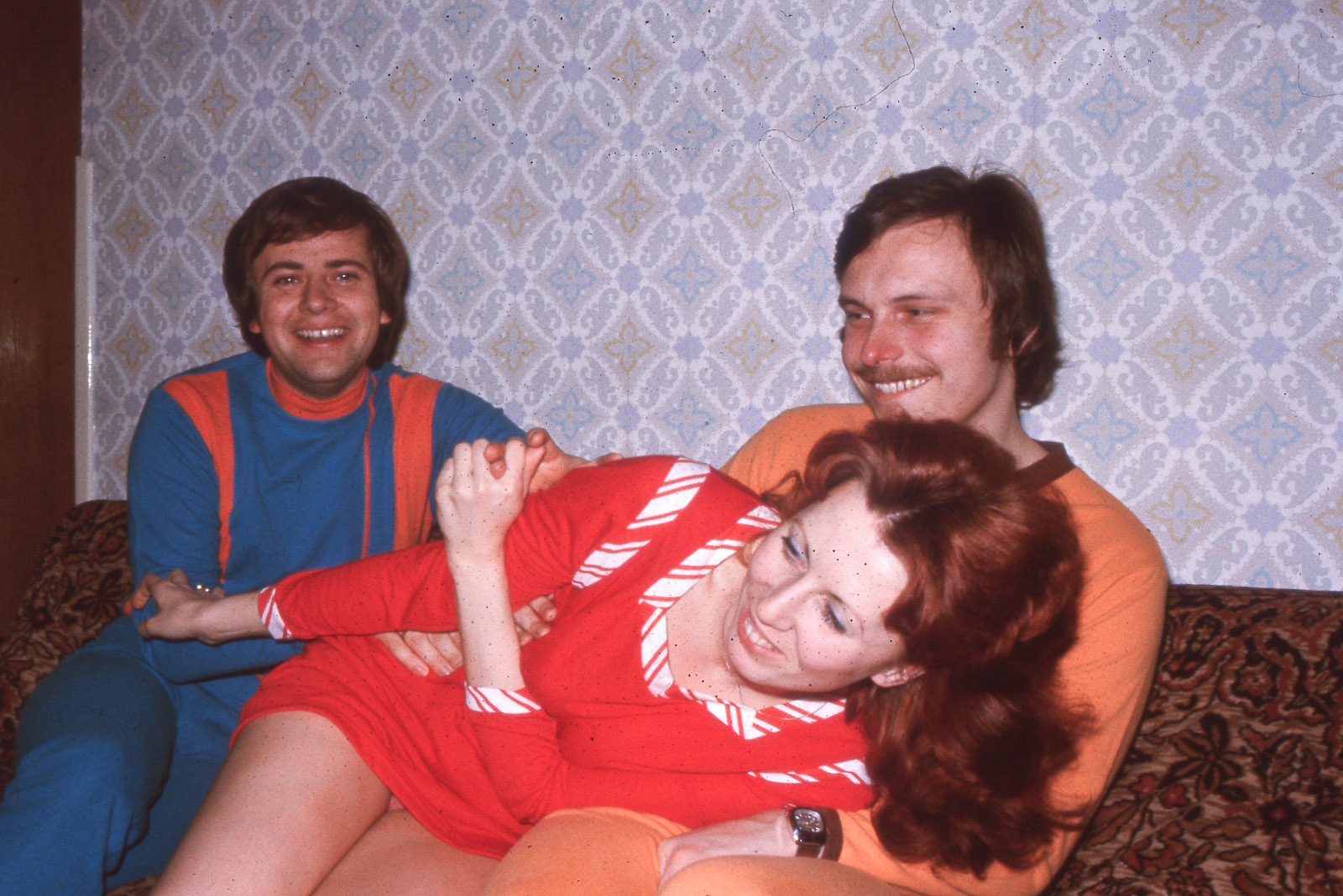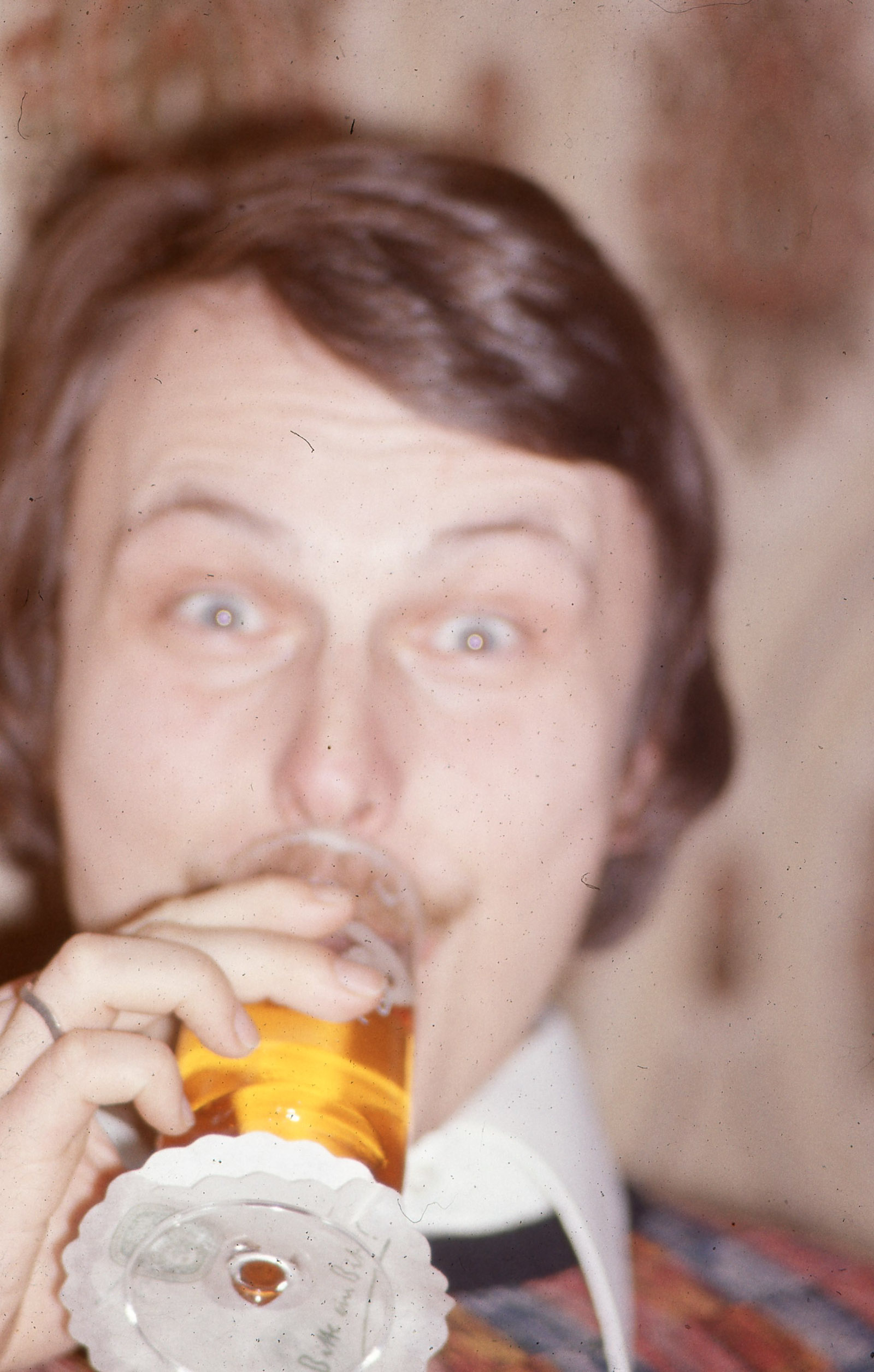Экономика авиаперелетов, часть 2
Продолжаю конспектировать лекции о том, как работают авиакомпании и от чего зависят их цены. В прошлый раз рассказывал о том, на что уходит стоимость билета и на чем зарабатывают лоукостеры — пробегитесь, если интересно.
Сегодня поговорим о том, как авиакомпании формируют цену на билеты. Вот видео:
А вот — конспект:
- Прежде всего, цена на билет зависит от дня вылета. Самые дешевые билеты — во вторник или среду. Дороже — в четверг. Самые дорогие — в понедельник и пятницу. Билеты в понедельник и пятницу дороже, потому что в эти дни летит много людей: на работу, на отдых. Если одна компания снижает цены, другие тоже начинают снижать. Величина снижения может быть очень большой. В девяностых «Эйр Канада» из Монреаля в Сент-Джонс можно было добраться только «Эйр Канадой», билет стоил 600 долларов. Когда на маршрут пришли лоукостеры «Вест-Джет» и «Кен-Джет», цена опустилась до 300. После дальнейшей войны тарифов цена снизилась до 80 долларов.
- Когда цена примерно одинакова, пассажиры выбирают авиакомпанию с лучшим имиджем или ту, которой летали в предыдущий раз. Поэтому часто авиакомпании летают себе в ущерб чтобы перевезти пассажиров сейчас, в надежде они выберут компанию в дальнейшем и окупят траты. Многие авиакомпании так разоряются. Авиакомпании обычно стоят цены так. Сперва они продают часть билетов под кодом N по цене 150 долларов. Когда они продаются, то начинается продажа билетов с кодом G по 200, после — с кодом V по 250, после — L за 300 и так далее. Таким образом, чем раньше покупаешь, тем больше шансов купить самый дешевый билет.
- Однако так работает не всегда. В разные сезоны билеты с одним кодом стоят по-разному. Кроме того, компания может чуть манипулировать ценой билетов внутри кода (например, если резко растет цена на топливо).
- Когда вы покупаете билет в один конец, он может стоить условно 1000 долларов. Но если вы купите билет туда-обратно, он может стоить 300-400 долларов (цены условные). Казалось бы, что за ерунда? Но в этом есть тонкость. Чтобы купить билет за 300-400 долларов, нужно вылетать в незагруженный день (например, во вторник), и возвращаться — через неделю, в среду. Если купить билет туда-обратно с вылетом во вторник и с возвращением в загруженную и дорогую пятницу, то он будет стоить 1200 долларов. А если с вылетом туда в понедельник и обратно — в пятницу, то он обойдется в 2000 долларов, столько же сколько стоят два билета в один конец. Эта система образовалась из потребностей бизнес-путешественников — им важно улететь в понедельник и вернуться домой в пятницу, они готовы переплатить (все равно платит компания). А те, кто хотят сэкономить, помогают авиакомпаниям не возить полупустые самолеты в середине недели.
- И наконец, есть небольшие региональные аэропорты, в которых летает одна или две авиакомпании. Им не нужно так бороться за пассажиров, как они сражаются в крупных аэропортах, куда летает много авиакомпаний. Например, в аэропорт Саратова летает только «Аэрофлот» и «Саратовские авиалинии», других перевозчиков не пускают — и компании могут задирать цены. В Череповец летает только «Северсталь», и пассажиры заплатят столько, сколько потребуется. Если бы из Череповца в Москву или Петербург нельзя было добраться на поезде или автобусе (как часто бывает с американскими городами), то билет за часовой перелет мог бы стоить как трансатлантическое путешествие.
Итак: покупайте билеты заранее, старайтесь лететь во вторник или среду. Берегитесь понедельника и пятницы.
И второе видео — о том, как могущественный «Боинг» воевал с крохотной канадской «Бомбардье» и сам себя подставил.
Конспект:
- «Эйрбас» и «Боинг» на двоих занимают 75% рынка самолетов, который делят примерно поровну. Оставшуюся часть рынка занимают компании, которые производят небольшие самолеты — ими не занимается ни «Боинг», ни «Эйрбас». Такие самолеты производят «Эмбрейрер», «Бомбардье», а также «Сухой».
- «Эмбрейрер» производит замечательный самолет «И-джет»: маленький, малошумный, выгодный. Сотни аэропортов по всему миру с короткими взлетно-посадочными полосами специализируются именно на таких самолетах — например, «Лондон-сити».
- На канадскую компанию «Бомбардье» приходилось всего 6% рынка. Прежде всего, они выпускают совсем небольшой самолет «Си-Эр-Джей» (российские споттеры ласково зовут его «Сережей»). С 2016 году «Бомбардье» производит самолет «Си-Эс». «Си-Эс» насколько хороший самолет, что может перелететь из Нью-Йорка в Лондон — несмотря на то, что из-за проблем с двигателем компания едва не разорилась на создании этого лайнера. Но на «Си-эс» разместили всего несколько десятков заказы: «Эйр Балтик» и «Свисс». Этого было крайне мало для того, чтобы окупить проект и зарабатывать на нем.
- В 2017 году «Бомбардье» решили завоевать американский рынок с его десятками небольших аэропортов. Чтобы войти на рынок, канадцы продали 75 самолетов американском авиагиганту, «Дельте», всего за 20 млн долларов за штуку — это в 4 раза ниже каталожной цены, и в 1,5 раза дешевле себестоимости. Канадцы готовы были поставлять самолеты себе в убыток только чтобы выйти на американский рынок и в будущем развить успех.
- Но такой демпинг в США может считаться незаконным, чем попытался воспользоваться «Боинг». Американский производитель подал петицию в антимонопольное ведомство о том, что «Бомбардье Си-Эс» с такой ценой нарушает возможности «Боинга 737» на рынке. Несмотря на то что «Дельта» в суде отрицала планы покупки «Боинга 737», и то, что «737» и «Си» — это совсем разные самолеты, ведомство наложило на «Бомбардье» 300% пошлину на ввоз новых самолетов. Это делало демпинговую сделку с «Дельтой» совсем безнадежной.
- Чтобы обойти антимонопольное законодательство, канадцам пришлось продать часть компании «Эйрбасу». У «Эйрбаса» работает завод по сборке самолетов в США, на котором начали собирать «Эс» — формально самолет стал американским, и пошлиной больше не облагался.
- В ближайшие 20 лет авиарынку потребуется более 5500 самолетов типа «Си-Эс». После сделки с «Эйрбасом» «Бомбардье» намеревается поставить 3000 самолетов — более 60% рынка. Случилось ровно то, чего опасался «Боинг» — канадская компания завоевывает американский рынок. При этом потирает руки их главный конкурент, «Эйрбас».