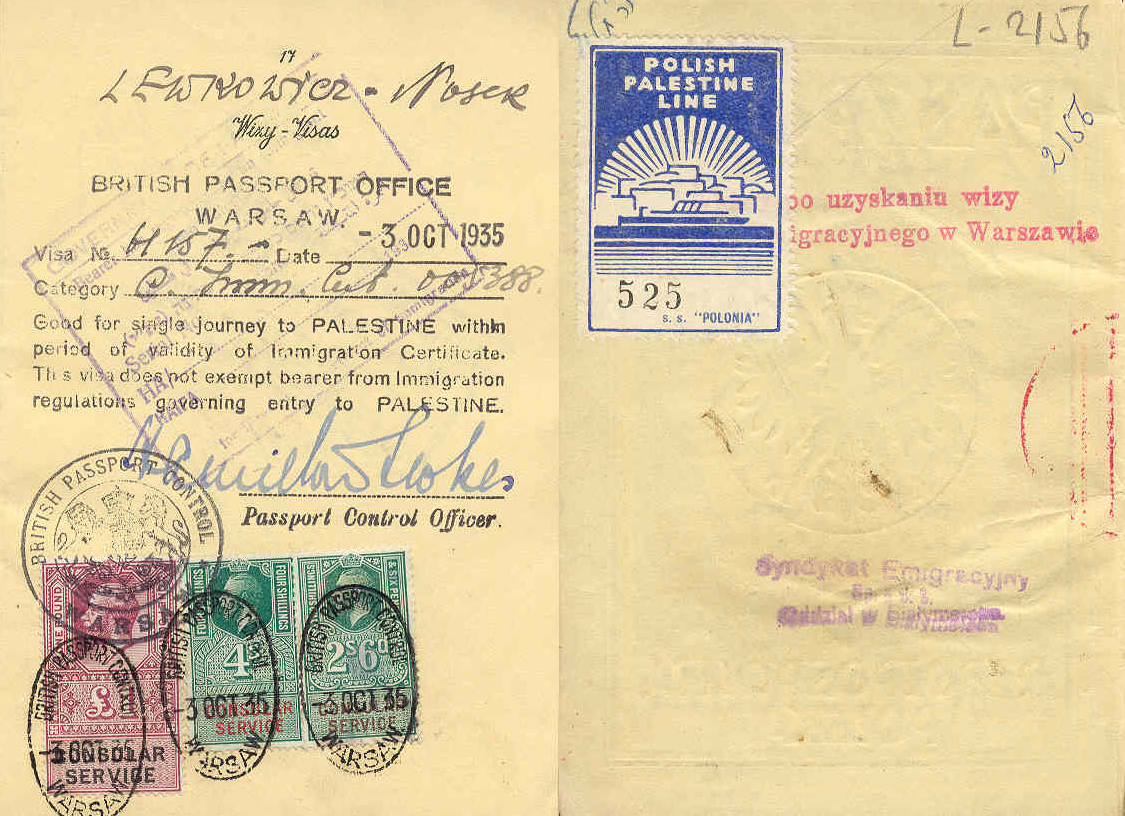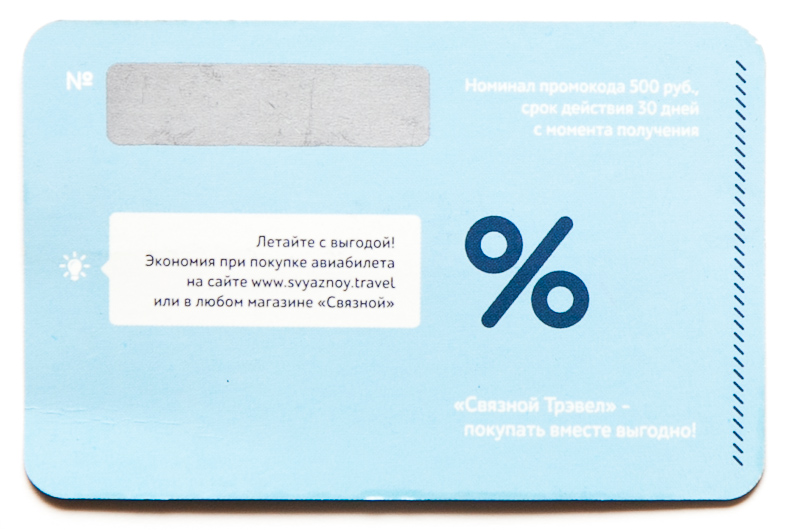Пока, Аййо!
Полгода назад я пришёл работать в Аййо — переехал из снежного Череповца в слякотную мартовскую Москву, получил бейджик и начал работать в этой классной компании. Кажется, что с тех пор прошла еще одна маленькая жизнь, отличная от всего, что со мной случалось раньше. И это подошло к концу.

Завтра мой последний рабочий день в Аййо. И я хотел бы рассказать о том, почему я больше не работаю в самом крутом онлайн-кинотеатре, и том, чему я научился за полгода.
Почему больше не работаю в Аййо
Я наконец понял, что мы с Аййо не очень хорошо подходим друг другу.
В Аййо у меня не получалось достаточно хорошо делать ворох рутинных задач. Мои коллеги и я сам были недовольны качеством работы, и это недовольство мешало мне сосредоточиться на творческих задачах. Я словно попал в замкнутый круг — боялся ошибиться, ошибался из-за этого и боялся еще больше.
Кроме того, я осознал, что работа в онлайн-кинотеатре — это не работа моей мечты. Я могу достаточно хорошо писать практически на любую тему, но кино оказалось темой слишком специфической для меня. Видимо, не зря я редко хожу в кино и не смотрю сериалов.
И еще я понял, что тяготею к задачам немного другого свойства. Мне хочется вырасти в корпоративного блогера или журналиста, возможно — в писателя.
В Аййо требовался копирайтер-микроскоп, въедливый для большого количества небольших задач. Я ощущаю себя скорее телескопом, хочу писать много и сочно. Мы пробовали перевернуть меня, но не очень получилось.
Чему я научился в Аййо
В любом случае — полгода работы в Аййо стали для меня мощной школой жизни и профессионализма. Я пришёл в компанию этаким убер-фрилансером, уверенным в своих абсолютных знаниях по любому вопросу. Однако мне пришлось пересмотреть многие свои профессиональные принципы, попутно научившись новым.
Вот некоторые из них:
- Всегда нужно предвосхищать ожидания. Предвосхищение ожиданий — это результат тщательно сделанной работы, которой ты сам управлял. Если целью задачи является некий результат А, то это означает, что исполнитель уже успел изучить вариант B, C и D, сам обсудил с коллегами точки прикосновения А с различными системами, сделал варианты А1, А2, А2.1 и, наконец, представил свой финальный вариант А3. И даже если А3 — это пока черновик и его нужно дорабатывать, но по крайней мере коллегам не придётся топтаться по полю, которое уже распахано в процессе выполнения задачи.
- В каждой критике нужно понимать боль. Если коллега говорит, что работа сделана плохо, нужно разобраться в истинных причинах его недовольства. Что именно не нравится в тексте? Почему ты считаешь, что он не подходит? Каким бы ты хотел его видеть? Без понимания чужой боли (клиента или коллеги) любая работа обречена на бесконечное угадывание результата.
- Основное качество работы в коллективе — это ответственность. Ответственность за работу проявляется не в том, что если сделал плохо, то кто-то придёт и настучит по голове палкой. Ответственность — это когда ты делаешь задачу так, словно делал бы её для себя. Ответственно писать текст — значит писать его словно в свой блог или на свой сайт.
- Задача любого человека в команде — повышать свою ответственность. Когда копирайтер, дизайнер, программист или менеджер перестаёт делать свою работу, начинает осматриваться вокруг себя, браться за непривычную работу, он начинает расти в правильном направлении. Можно бесконечно шлифовать своё персональное мастерство, но это не принесёт ответственности само по себе. Без повышения уровня ответственности сотрудник не развивается.
- Все устоявшиеся роли в проекте являются фантомными, временными. Руководитель проекта — это просто тот, кто взял на себя ответственность делать эту работу. К примеру, в Аййо дизайнер Валера Попов фактически стал менеджером просто потому, что ему хотелось сделать эту работу круто. Всем вокруг было всё равно, что он дизайнер, а не менеджер, главное, что он хорошо делает дело, за которое взялся. По сути, любой дизайнер, копирайтер или программист рано или поздно просветляется и становится менеджером, или ударяется в локальный суперпрофессионализм.
- Конечная цель любого профессионала — это создание Вещей, Штук. Каждая штука является новой единицей смысла. Когда-то её не было, но появился человек, который смог придумать штуку и воплотить её в жизнь. Для создания штук кроме других ресурсов нужно обладать большим уровнем ответственности. Стажёр может протереть монитор тряпочкой, руководитель проекта способен взять и придумать новое направление развития компании. Но если стажёр поймёт, что какая-то часть работы компании плоха, он может рассказать об этом, взять на себя ответственность и взяться за решение проблемы — создать новую штуку.
- Любая задача бессмысленна без её воплощения. Можно бесконечно рисовать прототипы и писать тексты, но они никому не нужны без штук, в которых используются. Обычный сотрудник делает задачу, мало задумываясь о том, кому она нужна, часто не дожидаясь её воплощения в реальность. Просветлённый делает свою работу, а потом добивается от коллег, того, чтобы она внедрилась в проект и заработает (для этого он… верно, принимает на себя ответственность).
- Ответственность нельзя дать, её можно просто взять.
- Любую работу нужно делать последовательно, максимально фокусируясь на каждой задаче.
- В подавляющем большинстве случаев «горящие» дедлайны — это миф. Любая срочная работа — это фейл (обычно чужой). Сроки поджимают? Сделаем завтра. Рисковать качеством ради производительности — это опасная практика, она рано или поздно подведёт.
- Хорошо тратить на обсуждение задачи больше времени, чем на её решение. После того, как задача тщательно сформулирована и обсуждена со всех сторон, её остаётся только взять и сделать. Задачу, которая берётся с лёту, потом придётся подгонять под рамки реальности.
- Задача копирайтера в коллективе — быть текстовым арт-директором для остальных сотрудников. Дизайнер сам может придумать слово в поп-ап, сотрудник службы поддержки сумеет создать смс-объявление, программист в состоянии написать пост на хабр. От таких текстов не требуется невероятного творческого уровня, все люди могут сделать их, если постараются. Копирайтеру достаточно выступить консультантом, отшлифовать то, что получилось, исправить ошибки и добавить перчинку. У него могут быть напряжённые творческие задачи, однако копирайтер не служит собачкой, которая должна прибежать и написать что-то. Часто на понимание чужой задачи придётся потратить в несколько раз больше времени, чем потратил бы исполнитель, решив её самостоятельно.
- Обратная аналогия верна. Копирайтер может сам поправить текст шаблона в фотошопе и способен поменять названия кнопок в файле, который ему отдал программист. Понятно, что обычно он этого не хочет (или не умеет), но сие оправданием не является.
- Синдром рыцаря (сотрудник бросается за любую порученную ему работу) — это лопата, которой он копает себе могилу.
- Сотрудник учится в коллективе тогда, когда он начинает минимизировать рутину своих коллег. Обучение в коллективе — это движение от «Покажи, как поменять текст в шаблоне фотошопа» к «Посмотри, я тут создал простой шаблон с текстами для будущего промо-сайта». Вариант «Вот текст для промо-сайта, поменяй» — это признак непрофессионализма.
- Соответственно, когда копирайтер учит фотошоп, а дизайнер изучает программирование, они делают это не потому, что им нечем заняться, а потому, что хотят делать штуку самостоятельно.
Если вкратце — берите ответственность, учите коллег делать работу целиком, и начинайте придумывать штуки. Делайте любую работу словно для себя, не жертвуйте качеством и не верьте в горящие дедлайны. Учитесь новому, каждый день, и ничего не бойтесь.
Что буду делать дальше
Первое время я планирую немного отдохнуть, привести в порядок свои дела и личные проекты. Хочу вспомнить эсперанто, научиться играть на укулеле, немного попутешествовать.
Я пока не объявляю о поисках новой работы, но если вам есть что мне написать — пишите на sergey@sergeykorol.ru