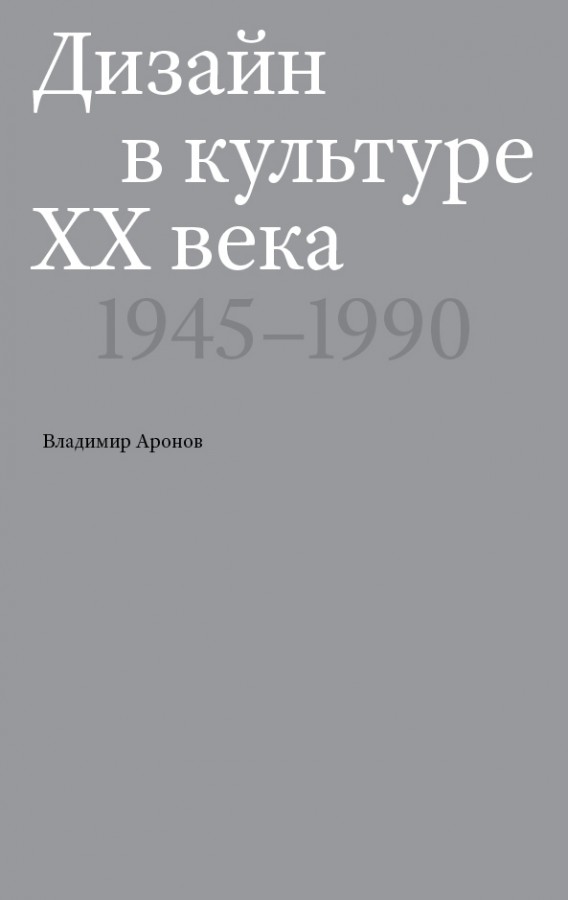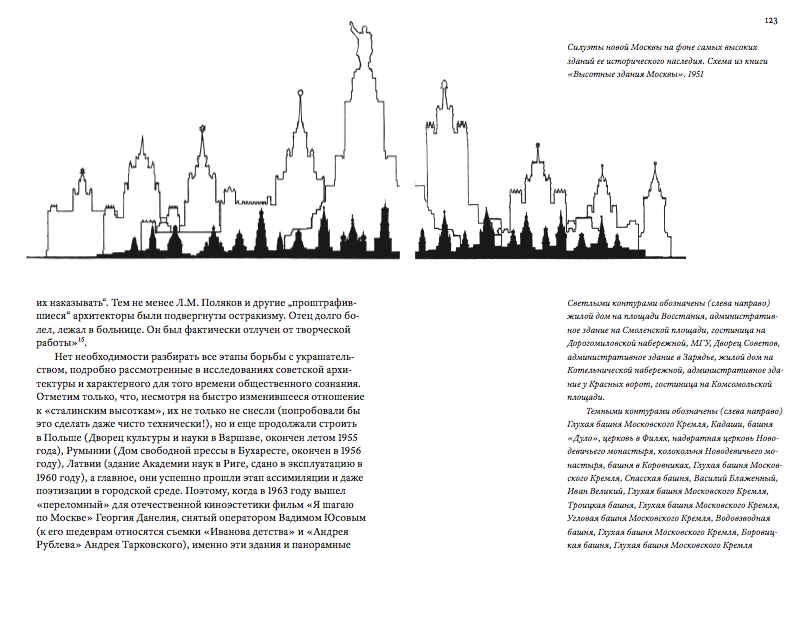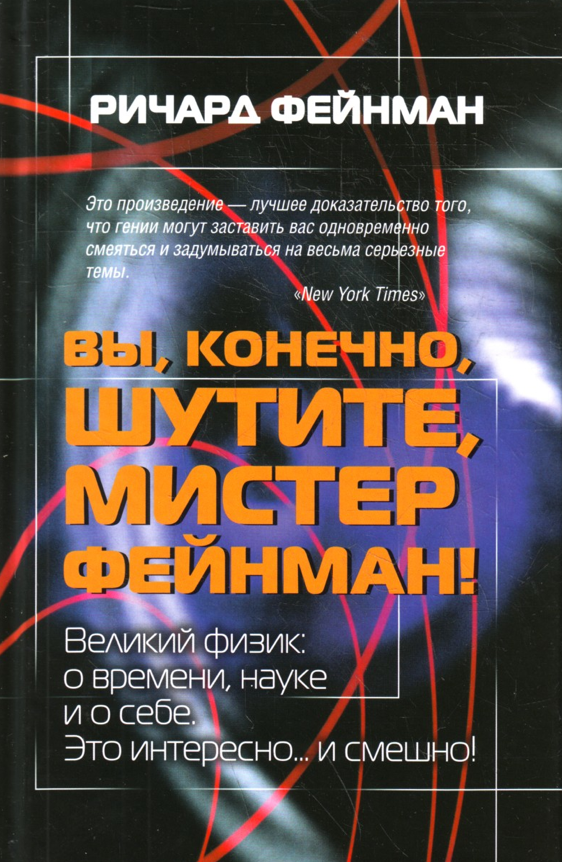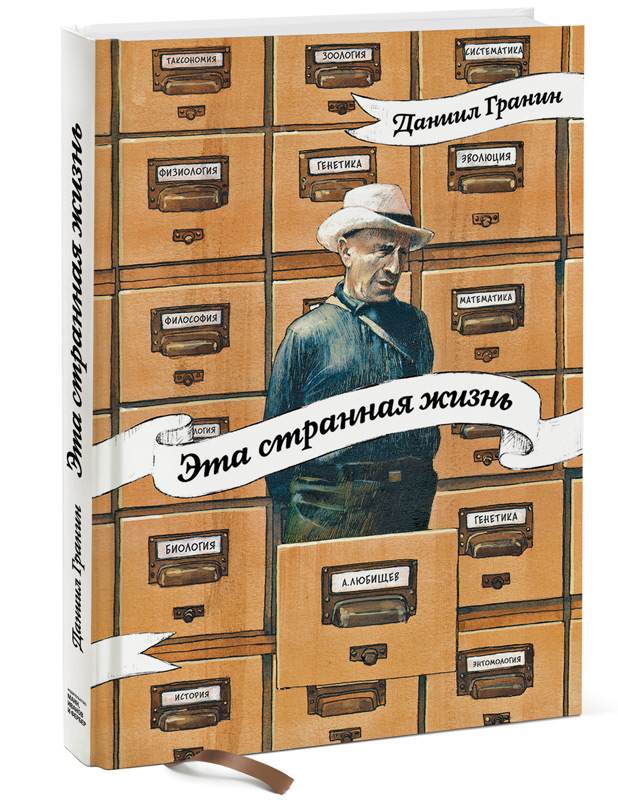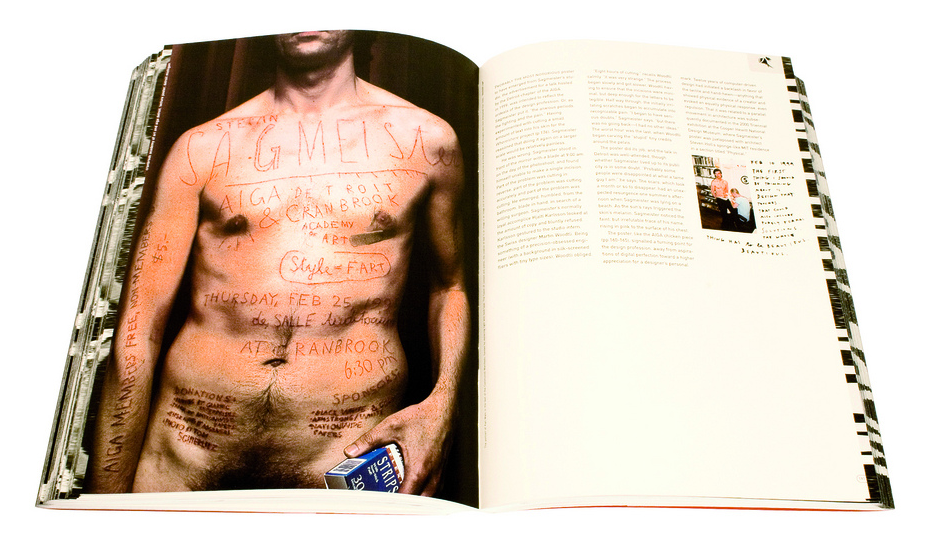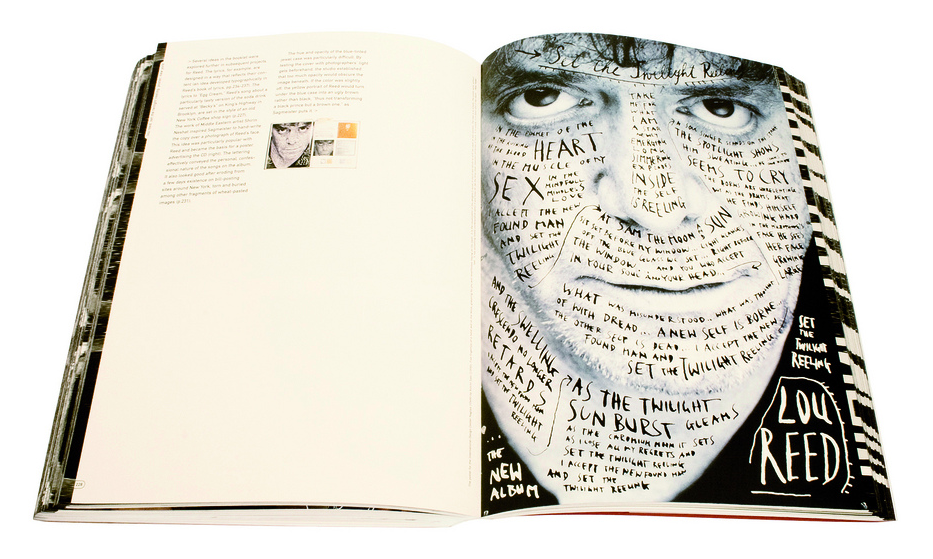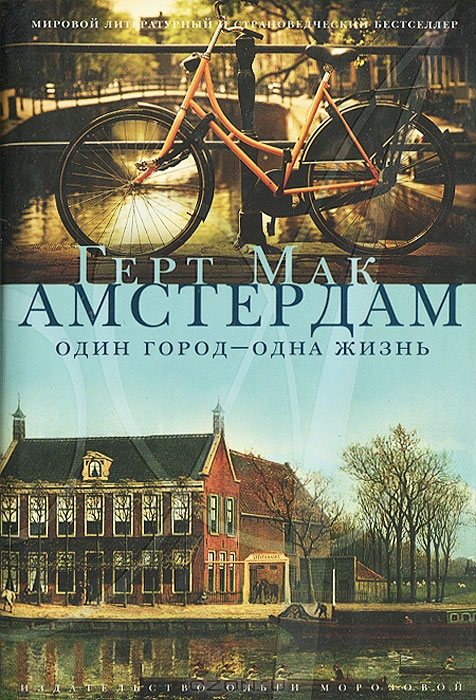«Анастасия Цветаева. Воспоминания»
Огромная книга воспоминаний Анастасии Цветаевой — о семье, времени, путешествиях и сестре Марине.

«Воспоминания» — это огромная книжка в девятьсот страниц, и я наивно полагал, что буду читать её долго. На деле книгу проглотил за неделю, вместе со всеми чрезвычайно сложными, метафоричными и глубокими описаниями.
И тогда, только тогда — раньше оно не думалось, точно сгинуло за жаркой завесой лета, — начинало медленно брезжиться, приближаться, словно во сне обнимая, подкрадываться, всего более на свете любимое, не забытое — о, нет, нет! — разве оно могло позабыться? — Рождество. И тогда наступал счет месяцев и недель. Не заменимая ничем — елка! В снегом — почти ярче солнца — освещенной зале, сбежав вниз по крутой лестнице, мимо янтарных щелок прикрытых гудящих печей, — мы кружились, повторяя вдруг просверкавшее слово. Как хрустело оно затаенным сиянием разноцветных своих «р», «ж», «д», своим «тв» ветвей. Елка пахла и мандарином, и воском горячим, и давно потухшей, навек, дедушкиной сигарой; и звучала его — никогда уже не раздастся! — звонком в парадную дверь, и маминой полькой, желто-красными кубиками прыгавшей из-под маминых рук на квадраты паркета, уносившейся с нами по анфиладе комнат.
Внизу меж спальней, коридорчиком, черным ходом, девичьей и двухстворчатыми дверями залы что-то несли, что-то шуршало тонким звуком картонных коробок, что-то протаскивали, и пахло неназываемыми запахами, шелестело проносимое и угадываемое, — и Андрюша, успев увидеть, мчался к нам вверх по лестнице, удирая от гувернантки, захлебнувшись, шептал: «Принесли!..» Тогда мы, дети («так воспитанные?» — нет, так чувствовавшие! что никогда ни о чем не просили), туманно и жадно мечтали о том, что нам подарят, и это было счастьем дороже, чем то счастье обладания, которое, запутавшись, как елочная ветвь в нитях серебряного «дождя», в путанице благодарностей, застенчивостей, еле уловимых разочарований, наступало в разгар праздника. Бесконтрольность, никому не ведомого вожделения, предвкушенья была слаще.
Часы в этот день тикали так медленно… Часовой и получасовой бой были оттянуты друг от друга, как на резинке. Как ужасно долго не смеркалось! Рот отказывался есть. Все чувства, как вскипевшее молоко, ушли через края — в слух.
У Анастасии Цветаевой — особый стиль, пересатурированная тоска о времени, которое уже не вернётся. Каждая из тысяч её строчек сквозит таким отчаянием и такой печалью, что мне порой становилось не по себе. Так получалось, что эту книгу я читал ночами перед сном, и, засыпая, каждый раз оказывался во власти странных, необоснованно-тревожных мыслей.
Увидев на катке девочку в бархатной черной курточке, я заболела желанием выйти на лед — в такой. Как случилось, что я решилась сказать папе, что мне тяжело кататься в моей старой шубке, и описала — нужное мне? Папа посоветовался, думаю, с Елизаветой Евграфовной, женой дяди Мити, а та, имевшая ко мне слабость, должно быть, одобрила мою мечту — и вот мы с папой на Тверской, у Охотного, в добротном старинном магазине тканей и сукон. Увы, папа не соглашается на бархат, выбирает плюш, притом — мятый; я, удерживая слезы, стою у прилавка. Так же стою перед портным Володиным, папиным любимцем, который перелицовывает папе костюмы (и постоянное папино огорчение узнавать, что он уже лицован, а в третий раз — не выходит…).
— Прибавьте, прибавьте, – говорит папа, видя палец Володина, зажимающий цифру на сантиметре, — и в ширину и в длину — дочка растет…
И вот я стою в отчаянии перед зеркалом Лёриной мамы в гостиной: тяжелое сооружение из «мещанского», как я считаю, мятого плюша мне ниже колен, у плеч — буфы, ненавистные. Но я ведь должна ходить в этом на каток, раз сшили? И меня озаряет мысль: папа забудет длину, если не станет видеть пальто ежедневно, и тогда… Я ухожу на каток. Я катаюсь с трудом, но не выйти на лед в папиной, мне так трогательно подаренной вещи было бы бессовестно. И только эта мука дает мне право через короткое время изнемочь и приступить к операции: дверь на крючке, пальто разложено на ковре; и я с большим трудом, с бьющимся сердцем режу сперва плюш, потом — ватную подкладку. От туго сжатых ножниц боль и следы на руке, слушаю, не идут ли, шью. Много дней удалось мне всякими ухищрениями уходить на каток так, чтобы папа меня не увидел. Необычность операции, укоротившей пальто не менее чем на двадцать сантиметров, страх, теперь, после ее совершения, и неизбывное чувство вины — все это гасило страданья от неизменности буфов, дав размах коньковым шагам, легкость коленям. Но что почувствовала я, коща месяца полтора-два спустя я по оплошности своей попалась на глаза в обрезанном пальто — папе! Все сжалось во мне – и замерло. Мужество было готово покинуть меня. Что сказать? Как выйти из положенияч?.. В голове — шаром покати!
– А еще говорила — длинно! — сказал весело папа. — Видишь, как уже подросла…
Чудный, трогательный папа, в течение десятков лет даривший двум женам и трем дочерям вишневые материи на платья, цвета, не оцененного ни одной из них. Дарил — и забывал, довольный покупкой, по рассеянности не замечая, что вишни цветут в сундуке…
Это воспоминание из жизни людей, которые давно ушли и бросили нас наедине с нашими житейскими проблемами. Они сгинули в пламени войн, революций и репрессий, и всё, что нас с ними объединяет — это общие язык и территория, на которой мы живём. Это воспоминание о людях, которые верили в свою звезду, с детства много путешествовали и говорили на нескольких языках. Они влюблялись с первого взгляда и умирали шутя.
Тяжёлая в своей инерции история Руси столкнулась с эпохой больших перемен, выбив яркую искру Серебрянного века, и отблески этой искры составили свои следы на страницах «Воспоминаний». Я люблю этих людей, хоть совсем не знаю их…
Когда началось мое знакомство с Осипом Эмильевичем и его братом Александром, Марины уже не было в Коктебеле, ее дружба с Осипом Мандельштамом была позже.
Осип и Александр были крайне бедны, жили на последние гроши, всегда мечтая где-то достать денег, брали в долг у каждого, не имея возможности отдать. Александр делал это кротко, получал с благодарностью. Осип брал надменно, как обедневший лорд: благосклонно, нежно улыбаясь одно мгновение (долг вежливости), но было понятно, что брал как должное — дань дару поэта, дару, коим гордился, и голову нес высоко. Не только фигурально: мой Андрюша (ему в августе исполнялось три года) спрашивал меня тоненьким голоском: «Кто так вставил голову Мандельштаму? Он ходит как царь!»
Оба брата шутили с ним, уверяли, что Осип — Мандельштам, Александр же — Мандельштут, и Андрюша так их и звал.Осип был среднего роста, худ, неровен в движениях – то медлителен, то вдруг мог сорваться и ринуться чему-то навстречу. Чаще всего стоял, подняв голову, опустив веки на ласковые в шутливой беседе, грустно-высокомерные глаза. Казалось, опустив веки, ему легче жить.
Волос у него было мало — хоть двадцать четыре года! — легкие, темные, лоб уже переходил в лысину, увенчанную пушком хохолка. Горбатость носа давала ему что-то орлиное. И была в нем грация принца в изгнании. И была жалобность брошенного птенца. И он стал моим терзаньем и утехой. В несчетный раз я просила и слушала его «Аббата»:
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!», ~ сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади…Александр деликатно и нежно любил брата (думаю, и Осип — его).
Все чаще просили мы Осипа Эмильевича прочесть любимые нам стихи «Бессонница. Гомер…». Крутые изгибы его голоса, почти скульптурные, восхищали слух. Видимо, он любил эти стихи, он читал их почти самозабвенно — позабыв нас…Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.Давно нет ни его, ни почти никого из его слушавших, но как вещь в себе жив в памяти голос, рождающий в воздух, в слух эти колдовские слова.
В быту у братьев все не ладилось, они часто болели, особенно Осип. Был на диете: ему бывали воспрещены обеды в береговой кофейне «Бубны», где встречалась знать Коктебеля за шашлыками, чебуреками, ситро и пивом, и как-то само собой вышло, что Осип стал в смысле каш и спиртовок моим вторым сыном, старшим, а об Александре стала заботиться Лиза, сестра Сони Парнок. Мы с ней пересмеивались дружески-иронически над своей ролью и весело кивали друг другу. Серьезных бесед я не помню. Осип был величаво-шутлив, свысока любезен — и всегда на краю обиды, так как никакая заботливость не казалась ему достаточной и достаточно почтительно выражаемой. Он легко раздражался. И, великолепно читая по просьбе стихи, пуская, как орла, свой горделивый голос, даря слушателям (казавшуюся многим вычурной) ритмическую струю гипнотически повелительной интонации, он к нам снисходил, не веря нашему пониманию, и похвале внимал — свысока.Роль такого слушателя была мне нова и нежно-забавна -мне, росшей среди поэтов, — Марина, Эллис, Макс Волошин, Аделаида Герцык, — но, увлекаясь образом Осипа Мандельштама, я играла в сестру-няню охотно, забываясь в этой целительной и смешной простоте от всех сложностей моей жизни.
«Воспоминания» — это многостраничный исторический памятник о счастливом детстве сестёр Цветаевых, о поэзии как жизненной необходимости, ранних детях и трудностях, которые выпали на их долю. Мне книга показалась очень интересной.