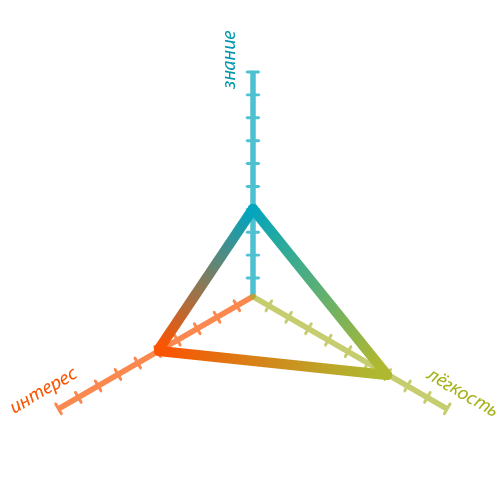Лидия Гинзбург, «Записные книжки. Воспоминания. Эссе»
Это очень объемистая книга, составленная из дневников, размышлений, обрывков разговоров, цитат и внутренних монологов, которые Лидия Гинзбург собирала по крупицам несколько десятилетий (первые кусочки текста датируются дцатыми годами прошлого века, последние — остыми). Толстая книга, килограмм убористого текста представляет по сути целую человеческую жизнь, декодированную в буквы. Лидия Яковлевна буквально смогла написать словами свою душу, обрести бессмертие в строчках текста. Читать такие мемуары-дневники — особое ощущение беседы с очень умным и наблюдательным человеком, которого уже нет в живых, но который предвидел эту самую беседу. Настоящая сингулярность, без всяких там силиконовых мозгов.
Кто-то говорил, что есть два рода дураков: зимние и летние. Летнего дурака видно сразу и издали. А зимний должен сперва снять калоши и шубу и размотать кашне — тогда уже все становится ясным. В. добавляет, что попадаются еще тропические дураки.
Разговор Маяковского с барышней:
— С одной стороны, мне жалко уезжать.
— Ну, и…
— Но я приехал с другой стороны.
Наблюдательность, заинтересованной Лидии Яковлевны зашкаливает. Она впитывала и перерабатывала огромное количество информации об окружающем мире. Часть этой информации она доносит точно без искажения, часть — осмысливает, переживает. Дневниковые, летописные описания сменяются текстовой рефлексией, размышлениями о литературе, искусстве, жизненной философии.
Пастернак нуждается; он не умеет халтурить. Его не печатают. Пастернак является к редактору пятнадцатикопеечной серии «Огонька». Редактор отвечает, что напечатать его не может, потому что у него с прошлого года лежит 800 штук рукописей и он их пускает в порядке очереди. — Послушайте. У вас ведь есть разные рубрики. У вас есть проза, есть критические статьи, есть хорошие стихи, есть плохие стихи… неужели я ни под одну не подойду?
Большая часть книги весьма сложна для понимания человеком, который знаком с литературой в пределах школьной программы. До половины написанного нельзя понять без перечитывания, помощи поисковых систем, зарывания головой в книжный песок — слишком энциклопедичны были познания автора, она просто не могла писать проще. Я советую читать «Записные книжки» медленно, прерываясь на гугл. Так вы сможете и глубже раскрыть написанное, и кардинально раскрыть для себя отечественную литературу.
С Маяковским в первый раз я встретилась при обстоятельствах странных. Шкловский повез как-то В. и меня в Гендриков переулок, где я втайне надеялась его увидеть. Брики сказали, что Володя сегодня, вероятно, не придет (он мог остаться в своей комнате на Лубянке) или придет очень поздно. Разочарование. Вечер прошел, пора было уходить. И вот тут обнаружилось нечто совсем неожиданное для москвичей — наводнение. Москва-река вышла из берегов. Такси на упорные вызовы Шкловского не отвечало. Мы остались сидеть в столовой. Чай остывал и опять горячий появлялся на столе. Глубокой ночью вдруг позвонил Маяковский — он достал машину и собирается пробраться домой. Я ждала сосредоточенно. Для меня Маяковский — один из самых главных. Маяковский пришел наконец. Должно быть, его развлекло московское наводнение — он был хорошо настроен. Он охотно читал стихи — стихотворение Есенину, «Разговор с фининспектором», еще другие. Слушать чтение Маяковского, сидящего за столом, в небольшой комнате — странно. Это как бесконечно уменьшенный и приглаженный макет его выступления. Потом я встречала В. В. неоднократно, в Москве и в Ленинграде. Но ни разу уже не видела его в столь добром расположении, таким легким для окружающих. Мы досидели тогда в Гендриковом до утра. Часов в пять такси наконец откликнулось.
На днях видела совсем другого Маяковского, напряженного и мрачного.
Накануне моего отъезда мы, то есть Гуковские, Боря и я, прощались у В. (она болеет). Пришел Маяковский. Он на прошлой неделе вернулся из-за границы и имел при себе весьма курьезную шапочку, мягкую, серую, с крохотной головкой и узкими круглыми полями — вроде чепчика. Он держал ее на колене, и у него на колене она сидела хорошо, но нельзя было без содрогания вообразить ее у него на голове. Влад. Влад. был чем-то (вероятнее всего, нашим присутствием) недоволен; мы молчали. Боря, впрочем, сделал попытку приобщить присутствующих к разговору, не совсем ловко спросив Маяковского о том, что теперь пишет Пастернак.
— Стихи пишет. Всё больше короткие.
— Это хорошо, что короткие.
— Почему же хорошо?
— Потому что длинные у него не выходят.
Маяковский:
— Ну что же. Короткие стихи легко писать: пять минут, и готово. А когда пишешь длинные, нужно все-таки посидеть минут двадцать.
После этого мы больше не вмешивались в разговор между хозяйкой дома и поэтом. Маяковский шутил беспрерывно, притом очень невесело. В большинстве случаев — плоско и для кого-нибудь оскорбительно, предоставляя понимать, что его плоскости умышленны (что вероятно, потому что он остроумен), а оскорбления неумышленны (что тоже вероятно, потому что он задевает людей не по злобе, а по привычке диспутировать).
Итак, мы молчали. В. вела разговор, Маяковский шутил. Особенно часто он шутил на тему о том, что ему хочется пить. Наконец Наталья Викторовна вышла за водой на кухню. Вода — кипяченая (сырой Маяковский не пьет) — оказалась тепловатой.
— Ничего, — сказала Нат. Викт., придвигая стакан, — она постоит.
— Она постоит, — сказал Маяковский, — а я уйду. И он ушел.
Если выкрутить ручку достоверности, дневниковости — из «Записных книжек» получится «Соло на Ундервуде» Довлатова. Если выкрутить её в другую сторону, в философию творчества, то выйдет типичная книга издательства «Ad Marginem». Впрочем, хватит крутить ручки — уберите пальцы от пульта, просто читайте. Самодостаточности в книге достаточно.
Проходя мимо дома, где жила когда-то его любимая женщина. Икс сказал задумчиво: «Лестница, по которой сходят с ума».
Деревня Домкино, куда мы ездили из Задубья покупать рыбу, принадлежала когда-то астроному Глазенапу. Водившая нас по деревне крестьянка сказала Виктору Максимовичу, что бывший барин теперь в Ленинграде на хорошей работе — «он там звездосчетом».
Одним словом, непростая книга, но очень интересная. Тонкий срез целого временного пласта, отпечаток мысли человека очень умного, глубокого. Советую пересилить себя и прочитать.
Хорошо и счастливо работается только тогда, когда работа заливает сознание. Я люблю писать по ночам, потому что ночью теряется рассеивающее ощущение движения времени. Днем только в самых редких случаях удается достигнуть этой окаменелости, глубокого безразличия к окружающему. День весь расчленен; он измеряется и управляется дробными величинами часов; причем каждый час имеет свою характеристику, настойчиво поддерживающую дробление. Одни часы ассоциативно связаны с профессиональными обязанностями, другие — с обедом (это сильное членение, дающее особую окраску часам предобеденным и послеобеденным), иные — с отдыхом. Словом, день очень заземлен, его этапы предназначены регулировать суету и не способствуют высокому оцепенению. Дневные часы наказывают нас отвратительным ощущением бестолковости, если мы нарушаем и смешиваем их функции; два часа дня и четыре часа — очень разные вещи. Два часа и четыре часа ночи — почти одно и то же. Все ночные часы в равной мере предназначены для сна; сон же представляется нам скорее потребностью, чем обязанностью. Пересилив эту потребность, мы чувствуем себя вправе искажать лицо ночи по нашему усмотрению. Ночные часы лишены индивидуальных признаков. Время не продвигается толчками, но сливается в поток, протекание которого неощутимо.
Человек за письменным столом слышит, как пульсирует кровь в его висках, разгоряченных работой. Он смотрит непонимающими глазами на циферблат, по которому без определенной цели движется часовая стрелка, до самого утра не имеющая власти над человеком.
Эта книга — блог, написанный в эпоху записных книжек из бумаги, карандашей и чернильных клякс. Интересно, когда мы все умрём, а человечество полетит в космос, будет ли кто-нибудь наслаждаться нашими блогами? Вряд ли.
Заболоцкий принес в Издательство писателей материал на новый сборник. В конце концов сказали, что попробуют, но кое-что нашли неудобным.
Неудобным нашли:— Осел свободу пел в хлеву.
Заболоцкий сел и тут же исправил:
— Осел природу пел в хлеву.
Нашли неудобным: «в красноармейских колпаках» Заболоцкий исправил: «в красноармейских шишаках». Нашли неудобным: «стоит как кукла часовой». Заболоцкий немедленно исправил: «стоит как брюква часовой». Но это нашли еще более неудобным.
⌘ ⌘ ⌘